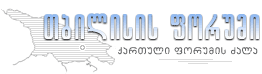ჯიბ
გამომამემბერეთ თქვენ

      
ჯგუფი: Members
წერილები: 12095
წევრი No.: 46065
რეგისტრ.: 8-November 07

|
#20728370 · 18 Jul 2010, 11:04 · · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
| QUOTE (BEKO @ 18 Jul 2010, 01:07 ) | just_for_today
გამოჩნდი |
+1
ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ნაწარმოები იმითაცაა გამორჩეული, რომ მას მერე, რაც მასზე ჩემი ასევე ერთ-ერთი უსაყვარლესი პაროდია შეიქმნა, ერთი მეორეს გარეშე ვეღარ წარმომიდგენია. საოცრად ჩაჯდნენ ერთიან ულამაზეს კომპოზიციად ერთ საოცარ ორმოცსონეტეულში.
წავიდა!
20 сонетов к Марии Стюарт (1974)
I
Мари, шотландцы всё-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?
И Люксембургский, в частности? Сюды
забрёл я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и пруды.
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как «всё былое ожило
в отжившем сердце», в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу, что осталось в русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.
II
В конце большой войны не на живот,
когда что было, жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовёт
назад, в «Спартак», в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звёзд, там главная – брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.
III
Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад-
вперёд гуляют дамы, господины,
жандарм синеет в зелени, усат,
фонтан мурлычит, дети голосят,
и обратиться не к кому с «иди на».
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг –
французских королев во время оно –
безмолвно, с воробьём на голове.
Сад выглядит, как помесь Пантеона
со знаменитой «Завтрак на траве».
IV
Красавица, которую я позже
любил сильней, чем Босуэла – ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически «о, Боже»,
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,
я пересёк другую – горизонта,
чьё лезвие, Мари, острей ножа.
Над этой вещью голову держа,
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.
V
Число твоих любовников, Мари,
превысило собою цифру три,
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
Нет для короны большего урона,
чем с кем-нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна).
И с этой точки зренья ни на пядь
не сдвинете шотландского барона.
Твоим шотландцам было не понять,
чем койка отличается от трона.
В своём столетьи белая ворона,
для современников была ты блядь.
VI
Я вас любил. Любовь ещё (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги,
Всё разлетелось к черту, на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Чёрт! всё не по-людски!
Я Вас любил так сильно, безнадёжно,
как дай Вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит – по Пармениду – дважды
сей жар в груди, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться – «бюст» зачёркиваю – уст!
VII
Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла ещё обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового – концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать – ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши «как живёшь?»
В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы – праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордоворот в косоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.
VIII
На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном,
и я бы отвечал тебе «Alas».
Шотландия нам стлала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.
IX
Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. «Ты кто такой?» – «А сам ты?»
«Я кто такой?» – «Да, ты.» – «Мы протестанты.»
«А мы – католики.» – «Ах, вот как!» Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрязг.
Потом – зима, узорчатые санки,
примерка шали: «Где это – Дамаск?»
«Там, где самец-павлин прекрасней самки.»
«Но даже там он не проходит в дамки»
(за шашками – передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.
Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И всё сливается в их волчьем вое.
X
Осенний вечер. Якобы с Каменой.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера
всё в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
в посадском, молью траченом жакете.
XI
Лязг ножниц, ощущение озноба.
Рок, жадный до каракуля с овцы,
что брачные, что царские венцы
снимает с нас. И головы особо.
Прощай, юнцы, их гордые отцы,
разводы, клятвы верности до гроба.
Мозг чувствует, как башня небоскрёба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьёт один, забуревают – оба.
Никто не прокричал тебе "Атас!"
И ты не знала "я одна, а вас...",
глуша латынью потолок и Бога,
увы, Мари, как выговорить "много".
XII
Что делает Историю? – Тела.
Искусство? – Обезглавленное тело.
Взять Шиллера: Истории влетело
от Шиллера. Мари, ты не ждала,
что немец, закусивши удила,
поднимет старое, по сути, дело:
ему-то вообще какое дело,
кому дала ты или не дала?
Но, может, как любая немчура,
наш Фридрих сам страшился топора.
А во-вторых, скажу тебе, на свете
ничем (вообрази это), опричь
Искусства, твои стати не постичь.
Историю отдай Елизавете.
XIII
Баран трясёт кудряшками (они же
– руно), вдыхая запахи травы.
Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
В тот день их речи были таковы:
«Ей отрубили голову. Увы.»
«Представьте, как рассердятся в Париже.»
«Французы? Из-за чьей-то головы?
Вот если бы ей тяпнули пониже...»
«Так не мужик ведь. Вышла в неглиже.»
«Ну, это, как хотите, не основа...»
«Бесстыдство! Как просвечивала жэ!»
«Что ж, платья, может, не было иного.»
«Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
звучит как баба в каждом падеже.»
XIV
Любовь сильней разлуки, но разлука
длинней любви. Чем статнее гранит,
тем явственней отсутствие ланит
и прочего. Плюс запаха и звука.
Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:
на то и камень (это ли не мука?),
но то, что страсть, как Шива шестирука,
бессильна – юбку, он не извинит.
Не от того, что столько утекло
воды и крови (если б голубая!),
но от тоски расстёгиваться врозь
воздвиг бы я не камень, но стекло,
Мари, как воплощение гудбая
и взгляда, проникающего сквозь.
XV
Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю»;
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что – за печатями семью –
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.
Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.
XVI
Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и, на ночь глядя залитым пожаром,
багровый лес незримому курлы
беззвучно внемлет порами коры;
лай сеттера, встревоженного шалым
сухим листом, возносится к стожарам,
смотрящим на озимые бугры.
Немногое, чем блазнилась слеза,
сумело уцелеть от перехода
в сень перегноя. Вечному перу
из всех вещей, бросавшихся в глаза,
осталось следовать за временами года,
петь на голос «Унылую Пору».
XVII
То, что исторгло изумлённый крик
из аглицкого рта, что к мату
склоняет падкий на помаду
мой собственный, что отвернуть на миг
Филиппа от портрета лик
заставило и снарядить Армаду,
то было — не могу тираду
закончить — в общем, твой парик,
упавший с головы упавшей
(дурная бесконечность), он,
твой суть единственный поклон,
пускай не вызвал рукопашной
меж зрителей, но был таков,
что поднял на ноги врагов.
XVIII
Для рта, проговорившего «прощай»
тебе, а не кому-нибудь, не всё ли
одно, какое хлебово без соли
разжёвывать впоследствии. Ты, чай,
привычная к не-доремифасоли.
А если что не так – не осерчай:
язык, что крыса, копошится в соре,
выискивает что-то невзначай.
Прости меня, прелестный истукан.
Да, у разлуки всё-таки не дура
губа (хоть часто кажется – дыра):
меж нами – вечность, также – океан.
Причём, буквально. Русская цензура.
Могли бы обойтись без топора.
XIX
Мари, теперь в Шотландии есть шерсть
(всё выглядит как новое из чистки).
Жизнь бег свой останавливает в шесть,
на солнечном не сказываясь диске.
В озёрах – и по-прежнему им несть
числа – явились монстры (василиски).
И скоро будет собственная нефть,
шотландская, в бутылках из-под виски.
Шотландия, как видишь, обошлась.
И Англия, мне думается, тоже.
И ты в саду французском непохожа
на ту, с ума сводившую вчерась.
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
но непохожие на вас обеих.
XX
Пером простым – неправда, что мятежным!
я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.
Предоставляю вашему суду:
a) был ли он учеником прилежным,
b) новую для русского среду,
c) слабость к окончаниям падежным.
В Непале есть столица Катманду.
Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду.
Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свёрнутым в дуду.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Тимур Кибиров
Двадцать сонетов к Саше Запоевой (1995)
1
Любимая, когда впервые мне
ты улыбнулась ртом своим беззубым,
точней, нелепо растянула губы,
прожжённый и потасканный вполне,
я вдруг поплыл – как льдина по весне,
осклабившись в ответ светло и тупо.
И зазвучали ангельские трубы
и арфы серафимов в вышине!
И некий голос властно произнёс:
"Incipit vita nova!" Глупый пёс,
потягиваясь, вышел из прихожей
и ткнул свой мокрый и холодный нос
в живот твой распелёнутый. О Боже!
Как ты орёшь! Какие корчишь рожи!
2
И с той январской ночи началось!
С младых ногтей алкавший Абсолюта
(нет, не того, который за валюту
мне покупать в Стокгольме довелось,
который ныне у платформы Лось
в любом ларьке поблескивает люто),
я, полусонный, понял в ту минуту,
что вот оно, что всё-таки нашлось
хоть что-то, неподвластное ухмылкам
релятивизма, ни наскокам пылким
дионисийских оголтелых муз!
Потом уж, кипятя твои бутылки
и соски под напев «Европы-плюс»,
я понял, что ещё сильней боюсь.
3
Но в первый раз, когда передо мной
явилась ты в роддоме (а точнее –
во ВНИНОЗМИРе), я застыл скорее
в смущенье, чем в восторге. Бог ты мой!
Как странен был нездешний облик твой.
А взгляд косящий и того страннее.
От крика заходясь и пунцовея,
три с лишним килограмма чуть живой
ничтожной плоти предо мной лежало,
полметра шевелилось и взывало
бессмысленно ко мне, как будто я
сам не такой же... Мать твоя болтала
с моею тёщей. И такси бежало,
как утлый челн, в волнах небытия.
4
И понял я, что зто западня!
Мой ужас, усмирённый только-только,
пошёл в контрнаступление. Иголки,
булавки, вилки, ножницы, звеня,
к тебе тянулись! Всякая фигня
опасности таила втихомолку.
Розетка, кипяток, котёнок Борька,
балкон и лифт бросали в дрожь меня.
А там, во мгле грядущей, поджидал
насильник, и Невзоров посылал
ОМОН на штурм квартиры бедной нашей,
АЭС взрывались... Бездны на краю
уже не за свою, а за твою
тончайшую я шкуру трясся, Саша.
5
Шли дни. Уже из ложки ела ты,
Вот звякнул зуб. Вот попка округлилась.
Ты наливалась смыслом, ты бесилась,
агукала средь вечной пустоты.
Шли съезды. Шли снега. Цвели цветы.
Цвёл диатез. Пелёнки золотились.
Немецкая коляска вдаль катилась.
И я забыл мятежные мечты.
Что слава? Что восторги сладострастья?
Что счастие? Наверно, это счастье.
Ты собрала, как линзочка, в пучок
рассеянные в воздухе ненастном
лучи любви, и этот свет возжёг –
да нет, не угль – лампадный фитилёк.
6
Чтоб как-то структурировать любовь,
избрал я форму строгую сонета.
Катрена два и следом два терцета.
abba. Поэтому морковь
я тру тебе опять. Не прекословь! –
как Брюсов бы сказал. Морковка эта
полезнее котлеты и конфеты.
abba. И вот уже свекровь
какая-то ( твоя, наверно) прётся
в злосчастный стих. ссdс. Бороться
нет сил уж боле. Зря суровый Дант
не презирал сонета. Остаётся
dd, Сашура. Фант? Сервант? Сержант?
А может, бант? Нет, лучше бриллиант.
7
Я просыпаюсь оттого, что ты
пытаешься закрасить мне щетину
помадою губной. И так невинно
и нагло ты хохочешь, так пусты
старанья выбить лживое «Прости,
папулечка!», так громогласно псина
участвует в разборке этой длинной,
и так полны безмозглой чистоты
твои глаза, и так твой мир огромен,
и неожидан, и притом укромен,
и так твой день бескраен и богат,
что даже я, восстав от мутной дрёмы,
продрав угрюмый и брезгливый взгляд,
не то чтоб счастлив, но чему-то рад.
8
Ну вот твоё Коньково, вот твой дом
родной, вот лесопарк, вот ты на санках,
визжа в самозабвеньи, мчишься, Санька,
вот ты застыла пред снеговиком,
мной вылепленным. Но уже пушком
покрылись вербы, прошлогодней пьянки
следы явила вешняя полянка,
и вот уж за вертлявым мотыльком
бежишь ты по тропинке. Одуванчик
седеет и лысеет, и в карманчик
посажен упирающийся жук.
И снова тучи в лужах ходят хмуро...
Но это всё с тобою рядом, Шура,
спираль уже, а не порочный круг.
9
«Ну что, читать? .. У лукоморья дуб
зелёный... Да, как в Шильково... златая...
ну золотая значит, вот такая,
как у меня кольцо...» Остывший суп
десертной ложкой тыча мимо губ,
ногой босою под столом болтая,
обедаешь, а я тебе читаю
и раздражаюсь потихоньку. Хлюп –
картошка в миску плюхается снова.
Обсценное я сглатываю слово.
«Ешь, а не то читать не буду, Саш! ..
...на дубе том...» – «Наш Том?!» – «Не понимаю,
что наш?» – Но тут является, зевая,
легчайший на помине Томик наш.
10
Как описать? Глаза твои красивы.
Белок почти что синий, а зрачок
вишнёвый, что ли? чёрный? Видит Бог,
стараюсь я, но слишком прихотливы
слова, и, песнопевец нерадивый,
о видео мечтаю я, Сашок.
Твоих волос густой и тонкий шёлк
рекламе уподоблю я кичливой
«Проктер знд Гэмбл» продукции. Атлас
нежнейшей кожи подойдет как раз
рекламе «Лореаль» и мыла «Фриско».
Прыжки через канаву – «Адидас»
использовать бы мог почти без риска.
А ласковость и резвость – только «Вискас»!
11
Ты горько плачешь в роковом углу.
Бездарно притворяясь, что читаю
Гаспарова, я тихо изнываю,
прервав твою счастливую игру
с водой и рафинадом на полу.
Секунд через 15, обнимая
тебя, я безнадежно понимаю,
как далеко мне, старому козлу,
до Песталоцци... Ну и наплевать!
Тебя еще успеют наказать.
Охотников найдётся выше крыши,
Подумаешь, всего-то полкило.
Ведь не со зла ж и явно не назло.
Прости меня. Прижмись ко мне поближе.
12
Пройдут года. Ты станешь вспоминать.
И для тебя вот эта вот жилплощадь,
и мебель дээспэшная, и лошадь
пластмассовая, и моя тетрадь,
в которой я пытаюсь описать
всё это, и промокшие галоши
на батарее, и соседский Гоша,
и Томик, норовящий подремать
на свежих простынях, – предстанут раем.
И будет светел и недосягаем
убогий, бестолковый этот быт,
где с мамой мы собачимся, болтаем,
рубли считаем, забываем стыд.
А Мнемозина знай своё творит.
13
Уж полночь. Ты уснула. Я сижу
на кухне, попивая чай остылый.
И так как мне бумаги не хватило,
я на твоих каракулях пишу.
И вот уже благодаря у-шу
китаец совладал с нечистой силой
по НТВ, а по второй – дебилы
из фракции какой-то. Я тушу
очередной окурок. Что там снится
тебе, мой ангел? Хмурая столица
ворочается за окном в ночи.
И до сих пор неясно, что случится.
Но протянулись через всю страницу
фломастерного солнышка лучи.
14
«Что это – церковь?» – «Это, Саша, дом,
где молятся.» – «А что это – молиться?»
Но тут тебя какая-то синица,
по счастью, отвлекает. Над прудом,
над дядьками с пивком и шашлычком
крест вновь открытой церкви золотится.
И от ответа мне не открутиться.
Хоть лучше бы оставить на потом
беседу эту. «Видишь ли, вообще-то,
есть, а верней, должно быть нечто, Саш,
ну, скажем, трансцендентное... Об этом
уже Платон... и Кьеркегор... и наш
Шестов...» Озарены вечерним светом
вода и крест, и опустевший пляж.
15
Последние лет 20 – 25
так часто я мусолил фразу эту,
так я привык, притиснув в танце Свету
иль в лифте Валю, горячо шептать:
«Люблю тебя!», что стал подозревать,
что в сих словах иного смысла нету.
И все любови, канувшие в Лету,
мой скепсис не могли поколебать.
И каково же осознать мне было,
что я... что ты... не знаю, как сказать.
Перечеркнув лет 20 – 25,
Любовь, что движет солнце и светила,
свой смысл мне хоть немножко приоткрыла,
и начал я хоть что-то понимать.
16
Предвижу всё. Набоковский фрейдист
хихикает, ручонки потирает,
почёсывает пах и приступает
к анализу. А концептуалист,
чьи тексты чтит всяк сущий здесь славист,
плечами сокрушённо пожимает.
И палец указательный вращает
у правого виска метафорист.
Сальери в «Обозренье книжном» лает,
Моцарт зевок ладошкой прикрывает,
на добычу стремится пародист,
всё громче хохот, шиканье и свист!
Но жало мудрое упрямо возглашает,
как стан твой пухл, и взор твой как лучист!
17
Где прелести чистейшей образцы
представлены на удивленье мира –
Лаура, леди смуглая Шекспира,
дочь химика, которую певцы,
Прекрасной Дамы верные жрецы,
делили, и румяная Пленира –
туда тебя отеческая лира
перенесёт. Да чтут тебя чтецы!
А впрочем, нет, сокровище моё!
Боюсь, что это вздорное бабьё
тебя дурному, доченька, научит.
Не лучше ли волшебное питьё
с Алисой (Аней) выпить? У неё
тебе, по крайней мере, не наскучит.
18
Промчались дни мои. Так мчится буйный Том
за палкою, не дожидаясь крика
«Апорт!», и в нетерпении великом
летит назад с увесистым дрючком.
И вновь через орешник напролом,
и лес, и дол наполнив шумом диким –
и топотом, и тявканьем, и рыком,
не ведая, конечно же, о том,
что вот сейчас докурит сигарету
скучающий хозяин, и на этом
закончится игра, и поводок
защёлкнется, а там, глядишь, и лето
закончено, а там уже снежок...
Такая вот метафора, дружок.
19
И если нам разлука предстоит...
Да что уж «если»! Предстоит, конечно.
Настанет день – твой папа многогрешный,
неверный муж, озлобленный пиит,
лентяй и врун, низвергнется в Аид.
С Франческой рядом мчась во мгле кромешной,
воспомню я и профиль твой потешный,
и на горшке задумчивый твой вид!
Но я взмолюсь, и Сила Всеблагая
не сможет отказать мне, дорогая,
и стану я являться по ночам
в окровавленном саване, пугая
обидчиков твоих. Сим сволочам
я холоду могильного задам!
20
Я лиру посвятил сюсюканью. Оно
мне кажется единственно возможной
и адекватной (хоть безумно сложной)
методой творческой. И пусть Хайям вино,
пускай Сорокин сперму и говно
поют себе усердно и истошно,
я буду петь в гордыне безнадёжной
лишь слёзы умиленья всё равно.
Не граф Толстой и не маркиз де Сад,
князь Шаликов – вот кто мне сват и брат
(кавказец, кстати, тоже)!.. Голубочек
мой сизенький, мой миленький дружочек,
мой дурачок, Сашочек, ангелочек,
кричи «Ура!»! Мы едем в зоосад!
|