Kakha.G
STRANGER IN THE NIGHT
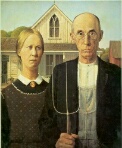
      
ჯგუფი: Members
წერილები: 17855
წევრი No.: 208583
რეგისტრ.: 6-October 15

|
#54179218 · 5 Feb 2019, 19:39 · · პროფილი · პირადი მიმოწერა · ჩატი
Сарматы, аланы, аорсы…
27.11.2015
Скачать страницу в PDF
kurgan
Лев Клейн
Фрагмент из книги Л.С.Клейна "Хохлач и Садовый"
Читайте также ниже, в разделе «Мнения экспертов» рецензию д.и.н. профессора Ф.Х. Гутнова на брошюру г-на Тахира Моллаева «Новый взгляд на историю осетинского народа»
Датировка наших царских или княжеских курганов поднимает вопрос об этнической принадлежности тех, кто их оставил. Вправе ли мы называть их сарматскими? Мы их называем так, следуя обычаю, введенному дальними наблюдателями – греко-римскими авторами, для которых все далекие варвары покрывались одной шапкой: «скифы» или «сарматы» или (потом) «гунны» — по какому-то из народов или племен этого круга, попавшему первым в кругозор античной дипломатии. Но сами эти народы, оставившие курганы, – как они себя называли и как их называли ближайшие соседи?
Борис Раев (1989; Раев и Яценко 1993; ср. Скрипкин 2001) обратил внимание на то, что эта группа богатых, в том числе перворазрядных (царских) курганов, на Нижнем Дону появилась именно в середине I века н. э. Он пришел к выводу, что это аланы, потому что именно в I веке н. э. в этом регионе произошла смена населения и в Причерноморье вторглась эта воинственная кочевая народность «сарматского» круга, ираноязычная. Они расположились на Кубани и на Нижнем Дону. Не все с этим согласны. Указания античных писателей обрывочны и неясны, толкований много (Кулаковский 1899; Кузнецов 1992; и др.). Другие исследователи называют других претендентов – аорсов. Вот почему я и определение «сарматский» брал в кавычки.
рис252A
Один из двух больших фаларов (украшений сбруи) I века н..э. с изображениями в сарматском зверином стиле, серебряный в золотой обкладке с бирюзой. В нем 190 камней. Найден в составе парадного конского убранства в Садовом кургане (раскопки Л. С. Клейна). Эти фалары украдены из Ростовского музея и переплавлены на колечки и золотые коронки. История исследования этого кургана будет изложена в готовящейся к изданию книге Клейна «Хохлач и Садовый».
У меня есть сомнение по поводу аланской принадлежности наших донских курганов. Раев начинал свой анализ с римского импорта и невольно концентрировал свою аргументацию вокруг богатства этих кочевников и их военных предприятий. Мне кажется более рациональным сосредоточиться на вещах местного производства или заказных, так сказать, местного спроса, потому что именно они определяют прежде всего этнографическую и, быть может, этническую специфику населения. Диссертация В. И. Мордвинцевой позволяет положить в основу анализа фалары (фалар — это круглая бляха, украшение конской сбруи).
Конь1
Первый набор фаларов (по В. И. Мордвинцевой)
Все 46 сарматских комплексов с фаларами В. И. Мордвинцева разбила на три типичных набора. Первый состоит из пары больших наплечных фаларов с тремя скобами для ремней и серии малых фаларов для уздечки и других сочленений. Второй набор состоит из нагрудного фалара, двух пар наплечных и серии малых для уздечки и прочего. Третий, из особого типа наплечных и уздечных, можно здесь не учитывать, потому что он представлен всего тремя комплексами.
Карта1
Карта (1) находок фаларов из наборов первого типа (карта составлена В. И. Мордвинцевой для своей диссертации о фаларах 1996 г. и опубликована в ее книге 2001 года в Германии; приводится с любезного разрешения автора).
Весь фокус в том, что эти наборы имеют очень четкое распределение на карте. Фалары первого набора распространены к востоку от Дона – в Волго-Донском междуречье и Предкавказье, а также за Волгой (карта 1). И только наш Садовый из этого набора расположен на правобережье Дона, то есть чуть западнее его. Фалары же второго набора расположены к западу от Дона – они рассеяны по всей Украине и заходят в Молдавию, и только два комплекса из этого набора найдены в Прикубанье (карта 2).
Конь2
Второй набор фаларов (по В.И. Мордвинцевой)
Карты Мордвинцевой показывают это с непреложностью. Третий набор, как я отметил, представленный незначительно — тремя находками, зафиксирован в низовьях Дона и на Волге. И самое важное: по времени оба первых набора покрывают века, смежные с рубежом эр: последние века до н. э. и первые века н. э. Первый набор датируется концом 3-го века до н. э. – первой половиной 2-го века н. э., а второй набор – концом 2-го – 1-м веком до н. э. и (одна находка) 1-м веком и первой половиной 2-го века н. э. Это фиксированные территории этносов, очерченные, как видим, разными типичными наборами фаларов, разным убранством парадного коня.
Карта2
Карта (2) находок фаларов из наборов второго типа (карта составлена В. И. Мордвинцевой для своей диссертации о фаларах 1996 г. и опубликована в ее книге 2001 года в Германии; приводится с любезного разрешения автора).
Обе территории могли бы быть аланскими, географические указания этому не противоречат. Но! Все эти комплексы начинаются в этих местах за два века до н. э. А аланы, согласно письменным источникам, появились только в I веке н. э. Значит, это никак не могут быть аланы. Скорее это аорсы, которые по сообщениям античных авторов жили в Нижнем Подонье и Нижнем Поволжье в это время. Аланы пришли позже с другой культурой.
Вокруг древних аланов разгораются нешуточные страсти (Шнирельман 1996; 2006; Перевалов 1999; Балановская 2015; Клейн 2915а; 2015б). Дело в том, что этот ираноязычный народ скифо-сарматского круга, упоминаемый в письменных источниках (китайских, римских, византийских и арабских) в Приазовье и Предкавказье, прославился своей воинственностью и объединил под своим господством обширную территорию. Они стали широко известны в раннем средневековье. В IV веке аланы участвовали в Великом переселении народов и часть их дошла к VI веку до Африки.
В Северном же Причерноморье Алания в VIII — XI веках охватывала значительную часть предкавказских и донских степей и совпадала с салтово-маяцкой археологической культурой. Это были юго-восточные соседи Киевской Руси. Они сражались с арабским халифатом, византийской империей и Хазарским каганатом. В древнерусских источниках они назывались ясами, в грузинских осами, а ныне этот термин у грузин обозначает осетин (народ, заметим, также ираноязычный). Татаро-монгольское нашествие XIII века положило конец этому объединению, а окончательно с ней как с политической силой покончил в XIV веке Тамерлан. После этого от аланов остался небольшой народ – осетины (Гаглойти 1966).
Видимо, из всех современных народов Кавказа, в культуре и генофонде которых отложились те или иные вклады аланов, осетины обладают наиболее прямой (прежде всего, языковой) преемственностью от аланов. Но поскольку аланы долго господствовали в Причерноморье, соседние народности (абхазо-адыгейской и тюркской языковых групп) испытали большое влияние аланов. Например, нартский эпос, в основе своей аланский, распространился на соседние народности и принял в себя также и местные компоненты. Карачаевцы и балкарцы (народ тюркской языковой группы, видимо связанный по происхождению с половцами) и сегодня называют себя аланами («аланла»). То есть термин «алан» от эпохи их господства унаследовал семантику престижа. И сейчас некоторые представители этих малых народов видят свой патриотический долг в доказывании своего кровного происхождения от аланов.
Да что балкарцы! И в русской среде порой проявлялось (и давно) стремление привязать себя к аланскому корню. В этом духе высказывался тот самый профессор Никодим Павлович Кондаков, который изучал сокровища Новочеркасского клада в совместном труде с Иваном Ивановичем Толстым и который был учителем Ростовцева. В годы революции он эмигрировал, а незадолго до своей эмиграции разочаровался в будущем Российского государства. По воспоминаниям жены писателя Бунина, Муромцевой-Буниной (2002: 349), он сетовал на русский народ. «Нет-с, русские люди ни на что не годны! – отчетливо и с раздражением говорил он порой. – Я алан по происхождению и очень рад, что во мне нет ни капли русской крови».
Аланом он себя провозглашал только потому, что в молодости был сильно черноволос (он полагал, что и аланы должны быть черноволосы) и потому, что род его происходил из слободы Халань, название которой он связывал с этнонимом «алан» — безо всяких лингвистических оснований. Но раньше, в 1882 г., когда великий князь Константин Николаевич бестактно спросил его: «Почему черный? Да вы русский?» — Кондаков ответил: «Почитаю себя таковым» (Кондаков 2002: 22).
Думаю, что и балкарские активисты вспомнят, что у них есть и другие предки, и что, скажем, происходить от половцев не так уж плохо, что они тоже выступали в истории могучей силой. Так или иначе, аланы стали теми «знатными предками», за которых идет борьба вокруг исторической науки (Клейн 2015а).
Сделаем этическое отступление.
Борьба эта не имеет смысла. Несомненно культура аланов влияла на соседние народы и вошла в их наследие. В языковом отношении какие-то части соседних народов могли быть ассимилированы и стали частью осетинского народа. А кровное родство может выявить только генетическое исследование. Обычно оно показывает большую смешанность населения. Но и другие предки не хуже, если даже имели меньше завоеваний и вообще менее известны. И не знатные предки определяют судьбы и значительность современных народов. Древние египтяне долго были самым мощным двигателем прогресса – это несомненные «знатные предки», но с их прямыми потомками коптами мало кто считается. Ассирийцы заставляли дрожать все окрестные народы, а сейчас прямые потомки ассирийцев специализируются на чистке башмаков в России и на быстром ремонте в киосках. С другой стороны, японцы еще несколько веков назад жили в раннем средневековье, а сейчас у них лучшие роботы и электроника, не говоря уж об автомобилях, оставивших наши далеко позади.
Предков стоит уважать, но незачем ими кичиться. Аланы и — более широко – сарматы интересны не только осетинам, и не только соседним кавказским народностям, имеющим полное право числить аланов в своих предках, прямых или непрямых, но и всем народам нашей страны (сарматский компонент есть и в русской культуре, и в русском языке). И не только им. Это увлекательная и неотъемлемая часть истории и культуры человечества.
* * *
Мнения экспертов
2016-01-03 14:35:30
По поводу книги Т.А. Моллаева «Новый взгляд на историю осетинского народа»
Публикуем рецензию д.и.н. профессора Ф.Х. Гутнова на брошюру г-на Тахира Моллаева (работника Национального парка «Приэльбрусье», бывшего заочника-филолога КБГУ), «Новый взгляд на историю осетинского народа». Редакция особо отмечает, что пантюркистская тенденция никогда в нашей науке не имела ни авторитета, ни поддержки.
Хорошо известно, что Кавказ является одним из самых многонациональных регионов мира. Этническая психология и самосознание горских народов, отмечают в этой связи В.И. Марковин, В.А. Кузнецов и И.М. Чеченов, неразрывно связаны с их историей. Свойственное кавказцам уважение к предкам, особенности общественного и культурного развития обусловили специфику менталитета, тяготеющего к истории. Все это определяет повышенный интерес населения к результатам исторических исследований. Как справедливо отмечают специалисты, история, без преувеличения, «стала инструментом этнокультурной самоидентификации народов, она в немалой степени формирует общественное сознание».
К сожалению, в последние время появилось немалое количество статей, книг, диссертаций, страдающих декларативными заявлениями, поверхностными рассуждениями, тенденциозными выводами.
На фоне общего кризиса российской науки (сокращение финансирования, ослабление и разрыв связей, потеря квалифицированных кадров и т.д.), падения престижа социальной роли ученого «стал совершенно очевиден обратный негативный процесс реанимации и наступления сил, враждебных подлинной науке» (Кузнецов, Чеченов). Псевдонаука склонна к сенсациям, «решительной перестройке науки и ее практических положений».
Перечисленные черты являются характерными для книги Т.А. Моллаева «Новый взгляд на историю осетинского народа» </strong>http://www.parliament-osetia.ru/index.php/main/analytics/art/1413 (Нальчик, 2010). С первых страниц на читателя буквально обрушивается вал сенсационных открытий в древней и средневековой истории осетин. Здесь же отметим, что в «новаторских» поисках истинной истории осетин наш автор не одинок. К аналогичными проблемам обращался врач из Назрани, осетинский «краевед» из Москвы и вот теперь – работающий в «сфере туризма» Тахир Моллаев. Удивительно, как, не имея профессиональной подготовки, люди берутся за сюжеты из прошлого осетин. И при этом обещают «развенчать результаты прежних исследователей» и показать истинную историю [наконец-то]] осетин.
Но Моллаев пошел еще дальше: в его понимании истории, как таковой, в природе нет и в помине. «История – не наука [?]], — бойко утверждает он, — а объект изучения науки [?], которую можно было назвать ‘историологией’. Но таковой на самом деле нет».
«Кто такой просто историк?» — задает он риторический вопрос. И сам же отвечает: «Только более или менее эрудированный индивид, посредник для передачи некой заученной информации [а она — то откуда берется? – Ф.Г.] – обычный рассказчик, не обладающий необходимыми научными критериями и инструментами для научного изучения прошлого. Вот кто такой просто историк».
Трудно дойти до истины в этом лабиринте мысли. Ясно лишь одно – истории в традиционном понимании этого термина – нет. На этом можно было бы опустить занавес. Но восстановленное «новыми методами» прошлое осетин содержит столько небылиц и «революционных» открытий, что оставить все это без внимания никак нельзя.
Начиная с лингвистики, наш автор тотально отрицает даже саму возможность какого-либо отношения осетинского языка «к языку восточно-европейских, казахстанских или же сибирских скифов; по объективным причинам [каким?] их никогда было». Дальше – больше: «попытки объяснять скифские слова на основе осетинского языка можно квалифицировать как вид досуга чисто развлекательного характера]». Затем следует «неоспоримый» вывод: использование осетинского языка для объяснения скифских текстов «к серьезной науке никакого отношения не имеет».
Вообще в первом разделе с симптоматичным названием «Отрицание» в сюжетах, связанных со скифами, Моллаев предстает в полной красе. В качестве аргумента для своих новаторских идей он использует книгу Бушкова «Чингисхан. Неизвестная Азия» (2007). Книга действительно «интереснейшая и познавательная», но все же – это не исторический источник и не историческое исследование. Стиль изложения самого Моллаева оставляет желать лучшего: «на полном серьезе», «аляповатая палочка-выручалочка», «изобретенная или надуманная терминология», «наглейший произвол», «достойный уровня иранистов», «бессмысленное и ложное определение» и т.д. Все эти и другие примеры оформления мыслей Моллаева больше напоминают уличную перебранку, нежели научную дискуссию.
Однако вернемся к языкознанию и использованию научных разработок лингвистов в реконструкции этносоциальных процессов скифских племен.
Приведем пример из последних исследований иранистов. В первую очередь назовем монографию Т.Т. Камболова «Очерк истории осетинского языка». Солидная по содержанию и объему книга отнюдь не первая его работа. Высокую оценку специалистов получили переводы Камболова исследований дореволюционных и современных лингвистов: «Осетинские исследования» А.М. Щегрена, сборник статей крупных иранистов Ж. Грисвара, Ж. Дюмезиля, А. Йосида, А. Кристоля, К. Вьеля — «Эпос и мифология осетин и мировая культура», работу известного французского антрополога и лингвиста Ж. Шарашидзе «Индоевропейская память Кавказа» и др. Здесь же добавим, что Камболов – доктор филологических наук, профессор, декан факультета международных отношений университета, заведующий кафедрой ЮНЕСКО пединститута.
В монографии Камболова рассматриваются исторические обстоятельства формирования осетинского языка. Автор использовал практически весь известный на сегодняшний день скифский, сарматский и аланский языковой материал. В книге обобщены и проанализированы научные гипотезы и теории в области исторического языкознания, появившиеся за два последних столетия. Это позволило Камболову предложить новые решения ряда дискуссионных проблем истории осетинского языка.
В книге детально проанализирован «аланский языковой материал»: Зеленчукская надпись, аланские фразы в «Теогонии» византийца Иоанна Цеца; аланский след в венгерском именнике и в языке в целом. Интересен комментарий Камболова к сенсационной находке конца XX в. – заметкам на полях рукописного ветхозаветного текста, обнаруженным датской исследовательницей С. Энгберг в Библиотеке Академии Наук в Санкт-Петербурге. Заметки выполнены на аланском языке.
Вопреки современной историографии, Моллаев отрицает даже саму возможность контактов скифов с племенами Центрального Кавказа как на равнине, так и в горной полосе. Но и здесь – лишь голословные утверждения.
Проблема скифо-кобанских взаимоотношений имеет обширную историографию. В настоящее время доминирует точка зрения, согласно которой скифы освоили не только предгорья, но и высокогорные районы по обоим склонам Главного Кавказского хребта. В Верхнем Притеречье присутствие номадов фиксируется по предметам скифского и «скифо-кобанского» облика. Аналогичные находки отмечены на городищах «Эльхоты ком» в 3-х км юго-восточнее с. Эльхотово; «Парстаг» к востоку от этого же села; «Дур-Дур III» на левобережье одноименной реки; на поселениях «Змейское» и «Сухая балка» на юго-западной окраине Владикавказа. Поселения и городища скифского времени расположены небольшими группами на естественных возвышенностях у слияния рек Урух и Терек, Гизельдон и Терек. С непосредственным присутствием скифов связаны грунтовые могильники на правом берегу Терека у владикавказского кадетского корпуса, у с. Карца; курганы: у селений Чикола, Красногор, Сунжа, Брут, на юго-западной окраине Владикавказа.
Разнообразные скифские предметы найдены у сел. Кумбулта, Чми, в Казбекском кладе, а в Южной Осетии — в большом кобанском могильнике у сел. Тли.
Находки предметов скифского типа в горной полосе Северной Осетии в последние годы составили внушительную коллекцию. Большинство из них не введено в научный оборот. «Однако картографирование предметов скифской культуры в Верхнем Притеречье позволяет определить интенсивность и особенности взаимодействия скифской и кобанской культур в VII-IV вв. до н.э.
Принципиальную позицию в данном вопросе занимает В.Б. Ковалевская: «Северный Кавказ — это не периферия скифского кочевого мира, а метрополия, и связи скифов на северокавказской почве не далекие и спорадические, а отношения ближайших соседей». Скифов и кавказцев связывают «союзные отношения — возможное участие кавказцев в скифских военных походах… ведущая роль скифов в этих взаимоотношениях безусловна» (Ковалевская). Столь же определенно высказались М.Н. Погребова и Д.С. Раевский: «для интересующей нас эпохи зоной обитания скифов следует считать в первую очередь и по преимуществу степи Предкавказья, служившие на всем протяжении VII в. до н.э. плацдармом для их походов в Переднюю Азию»
Длительное пребывание скифов на Кавказе сопровождалось, по данным Погребовой, «достаточно интенсивным внедрением этих воинов в местную среду». В VII-V вв. до н.э. скифские элементы на Северном Кавказе становятся настолько интенсивными, что налагают отпечаток на общий облик местной материальной культуры, придавая ей, по определению Е.И. Крупнова, «скифоидный характер». «Невозможно переоценить скифское влияние на Северном Кавказе» — отмечают в этой связи В.И. Марковин и Р.М. Мунчаев. Это влияние отразилось в материальной культуре и в похоронном обряде. С другой стороны, результатом оживленных контактов и связей степняков с населением Северного Кавказа стало появление у них типично кобанских элементов (Markowin, Muntschajew; Пиотровский; Ильинская, Тереножкин; Чеченов; Атабиев).
Специалисты (Пиотровский; Иессен; Крупнов; Ильинская, Тереножкин и др.) выделяют «группу выдающихся по своему значению памятников VII — VI вв. до н.э.» из окрестностей Моздока Северной Осетии. Синтез скифов с кобанцами в зоне Центрального Кавказа — важный этап в формировании предков осетин (см.: Уварова; Пиотровский; Иессен; Алексеева; Крупнов; Гаглойти; Техов).
В целом в оценке характера взаимодействия степняков и кобанцев археологи разделились на 2 группы. Одни (Ковалевская, Погребова; Раевский и др.) говорят о своеобразном «разделении труда» между скифами-воинами и кобанцами-ремесленниками в условиях, оцененных как межэтнический симбиоз. Другие (С.В. Махортых, С.Л. Дударев и др.) отстаивают идею межэтнического синтеза скифов с кобанцами, слиянии, породившем новые этнообразования.
Неприятие и возмущение вызывают у Моллаева результаты исследований отечественных и зарубежных иранистов. Особое возмущение («легковесная гипотеза»; «ложная интерпретация») у него вызвали аналитические работы тех исследований, которые подтверждают ираноязычную принадлежность алан, прямых предков средневековых осетин. В своем агрессивно-наступательном стиле Моллаев буквально штампует некорректные обвинения в адрес сторонников ираноязычности алан.
Моллаев активно использует труд древнегрузинского историка Леонтия Мровели. Явно преувеличено значение работы Леонтия (его работа названа «замечательной») в объяснении происхождения балкарцев и карачаевцев. Обращает на себя внимание тот факт, что генеологические и исторические предания об этногенезе балкарцев (в результате синтеза алан и тюрков) относятся к середине II-го тысячелетия, т.е. примерно на 500 лет позже жизни Леонтия Мровели. Это делает его работу бесполезной в реконструкции этногенеза балкарцев и карачаевцев.
Разгромную характеристику данному своду дал К.П. Патканов: «На каждом шагу чудовищные анахронизмы следуют за не менеечудовищными противоречиями до такой степени, что в первом отделе Хроники едва ли можно встретить хоть один факт, имеющий действительно историческое значение».
Критически относился к сведениям «Картлис Цховреба» (далее: КЦ) и В.Ф. Миллер. Называя свод «весьма мутным источником», ученый, например, обратил внимание на явное преувеличение фактов в рассказе о походе Горгасала против овсов; «в этом пространном повествовании на долю исторической истины придется лишь несколько ничтожных крупиц».
Советский академик А.Е. Крымский в рукописном фундаментальном труде «Хазары» подверг критике древние разделы КЦ. «Настоящей во всех фактах правдивой истории, — писал Крымский, — мы не должны, конечно, здесь искать».
Фактическое освоение КЦ для древних периодов истории еще не завершено, хотя библиография об источнике (от публикаций М. Броссе в начале ХIХ в. до наших дней) очень велика. Советские специалисты (за исключением большинства грузинских кавказоведов) осторожно подходят к оценке интересующих их сюжетов КЦ. Известный исследователь генезиса феодализма в Закавказье А.П. Новосельцев отмечает: «я, за редким исключением, воздерживаюсь от обращения к материалам “Картлис цховреба” до VII-VIII вв.».
Нет нужды останавливаться на всех перлах брошюры «Новый взгляд на историю осетинского народа». Ее автор свою задачу видит не внаписании достаточно полного и академического труда «с охватом многих интересных моментов по этому вопросу»; эту работу Моллаев великодушно отдает осетинским ученым. Свою часть работы он считает выполненной. Без ложной скромности он оценивает ее, как «логически аргументированную попытку обозначить… правильный взгляд на данный вопрос и обратить вниманиедумающих людей на реальное положение рассматриваемого вопроса».
Автор надеется, что его работа «встретит положительный отклик у тех, … кто не ангажирован и, обладая ясным умом, всегда способен воспринять слог достоверного факта и верной логики».
Прочитав книгу, я невольно задумался: если кто-то не согласен с автором этого бестселлера, то он «не обладает ясным умом» и не способен воспринять умом слог верной логики».
…Что ж, простите меня, г-н Моллаев…
Феликс Гутнов, доктор исторических наук.
|


